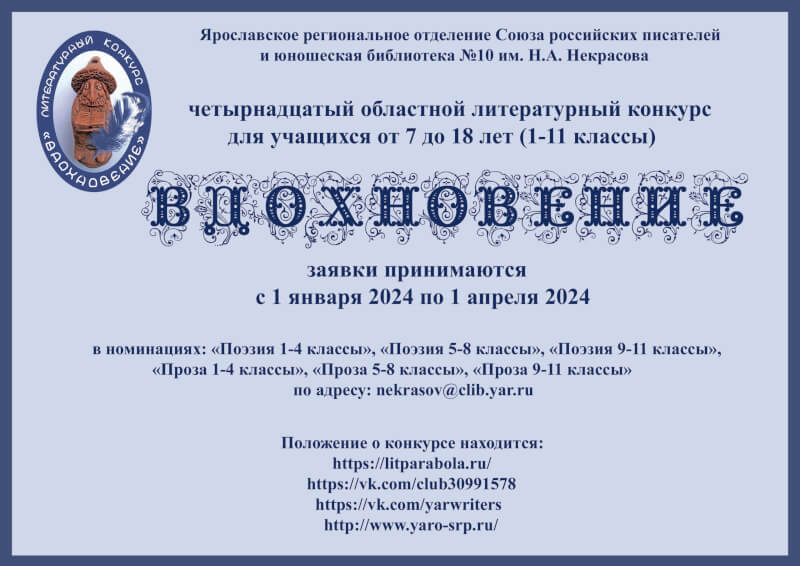16 лет, г. Рыбинск
(диплом третьей степени)
Саша
I
Солнце со всей силы ударяет мне по глазам, когда я появляюсь в чужом дворе. Следом за солнцем мне в лицо прилетает мяч: пацаны из этого двора меня недолюбливают, мы с ними с девяти лет кидаемся друг в друга камнями. Сейчас, правда, уже не камнями — слишком по-детски, — а мячом, который считается главным трофеем в нашей своеобразной войне дворов. Я сразу же ловлю его, и сердце начинает биться быстрее: если удастся притащить мяч в свой двор, по количеству выигранных сражений мы вырвемся вперёд. Но я знаю, что так просто мне уйти не дадут; с одного из крылец доносится голос: «Кто такой умный, догадался в него кинуть трофеем?» — и я слышу ожесточённые разборки пацанов. Под шумок я пытаюсь улизнуть, как вдруг тот же голос (я догадываюсь, что он принадлежит Мишке, здешнему главарю) рявкает:
— Александр! Ну-ка, верни мяч. Пора проверить тебя в действии.
Этого имени я здесь ещё не слышал. Где-то взяли новенького?..
— Я не Александр, я Саша, — отвечает Мишке другой голос, монотонный и какой-то уж чересчур высокий, почти девчачий, а потом от крыльца отделяется одна фигура и направляется в мою сторону.
Я хочу убежать — нет, даже должен, не могу же я подвести своих ребят, — но любопытство словно приковывает меня к земле. Мне ужасно хочется взглянуть на этого новенького, узнать, что он из себя представляет. Мяч-то я, конечно, упущу, но вот сведения о новом члене враждебной банды точно будут стоить дороже. Поэтому я никуда не двигаюсь и жду, пока новенький подойдёт ко мне.
Вопреки ожиданиям, когда он оказывается достаточно близко, я разочарованно вздыхаю. Он маленький, на голову ниже меня, худой, с ногами-спичками, высовывающимися из штанин широченных шорт (как будто у отца стащил, ей-богу), а на голове у него дурацкая кепка, нахлобученная на самые глаза так, что уши у него торчат, как лопухи. Да кто вообще не сможет убежать от такого хиляка?
Но, как только я разворачиваюсь и начинаю ускорять шаг, этот хиляк вдруг одним рывком кидается на меня и выхватывает мяч, а я ещё секунды две стою с растопыренными руками и не понимаю, что произошло. В отдалении слышится смех, Мишка радостно кричит: «Нет, вы только посмотрите на его лицо! Ни у кого нет с собой камеры? Эх, жаль!» — и это приводит меня в чувство.
Новенький уже отходит, в своих тонких руках держа мяч, и вернуть трофей назад теперь не представляется возможным. Я наконец-то закрываю рот и следую за ним, вспомнив о том, что, вообще-то, изначально я шёл к бабушке и не собирался ни во что ввязываться. Мишка победно машет мне рукой, и в этом жесте явно читается «Что, съел?»; впрочем, я делаю равнодушный вид и уже почти прохожу мимо него и его банды, как вдруг он окликает меня:
— Эй, постой! — и кивком головы указывает на новенького. — Это Саша. Должен же ты знать имя того, кто тебя уделал, — губы Мишки расползаются в гаденькую ухмылку — ничего необычного.
После этого я скрываюсь в подъезде и поднимаюсь по ступенькам, стараясь не думать о своём поражении. К моему удивлению, новенький Саша передаёт мяч Мишке и тоже идёт за мной, но обгоняет и, перепрыгивая через две ступеньки, исчезает на четвёртом этаже. Я же останавливаюсь на третьем и звоню в бабушкину квартиру.
II.
Дверь распахивается, и наружу выбегает бабушка, окутанная запахом маринованных огурцов и жареной картошки. Она радостно всплёскивает руками и тут же целует меня в обе щеки — такое ощущение, что я не на прошлой неделе приходил, а в прошлом веке! Я смущённо улыбаюсь — всё-таки не маленький уже для этих нежностей, — но обнимаю её в ответ.
— Хочешь картошечки? — воркует она, и я согласно киваю. Стычка с Мишкиной бандой физически мне никак не повредила, разве что останется синяк под глазом от прилетевшего мяча, но вот моральные силы и уверенность в себе всё же подорвала.
Бабушка торопится положить мне побольше картошки и вдобавок — два крупных маринованных огурца. Она ставит тарелку на стол, и я сразу же налетаю на еду, а бабушка умилённо, чуть ли не вытирая слёзы счастья, наблюдает за мной.
— Ты знаешь, — она внимательно смотрит на меня из-под толстых очков, пока я уминаю картошку, — к моей соседке недавно внучка приехала погостить.
— Угу, — отзываюсь я, не слишком заинтересовавшись её словами. Ну приехала и приехала, мне-то с этого что?
— Такая хорошая девочка, ты обязательно должен с ней познакомиться! — кажется, я начинаю понимать, к чему клонит бабушка. Она думает, что, раз мне уже шестнадцать, то пора бы озаботиться поиском невесты, а на все мои заявления о том, что официально брак в России разрешён с восемнадцати лет, отвечает: «Ну, погуляете два годика, а там и свадьба».
В другое время, я, наверное, отказался бы знакомиться с этой девчонкой, но после еды (и бабушка это прекрасно знает) я впадаю в особенно благодушное настроение, поэтому только пожимаю плечами:
— Почему бы и нет? Хоть сейчас её приводи.
Бабушка уже вскакивает, чтобы бежать за девчонкой, но вдогонку я догадываюсь бросить вопрос:
— Как её зовут-то?
— Саша, — отзывается бабушка, и тут же дверь квартиры за ней с хлопком закрывается.
Равнодушие к происходящему сползает с меня, как кожа со змеи. Я вспоминаю новенького во дворе — тоже ведь Саша. Не слишком много тут их развелось за неделю, которую я не был у бабушки? Отродясь Саш в этом дворе не было, если не считать старого алкоголика Шурика (да и тот — Шурик, не Саша), и вдруг нате — сразу двое! Как будто сговорились, по-другому и не объяснить.
От размышлений меня отвлекает всё та же дверь. Бабушка семенит в квартиру, сладким-сладким голоском приговаривает: «Проходи, Сашенька, проходи! Вон он, на кухне сидит, бездельник», — и заговорщически мне подмигивает: «А я пока до магазина сбегаю».
Я знаю, что её «до магазина сбегаю» займёт по крайней мере пару часов, поэтому мысленно готовлюсь провести их в компании скучной разукрашенной фифы (увы, такими были предыдущие кандидатки на роль моей невесты). Но едва мой взгляд падает на вставшую в дверном проёме Сашу, рот открывается сам собой, как сегодня, когда новенький выхватил у меня мяч из рук, потому что это, чёрт возьми, тот самый Саша из Мишкиной банды. Он (или она?) удивлён не меньше меня, но ещё больше смущён: щёки у него пунцовеют, а руки нервно крутят пушистый кончик косы, которую — я чувствую — он хочет спрятать, но кепки на нём сейчас нет, и приходится делать вид, что он сам не понимает, почему у него выросла коса.
— Ты… Саша? — еле выдавливаю я из себя, но она (я всё-таки решаю, что она) молчит и по-прежнему треплет свою косу. За её спиной возникает приземистая фигура бабушки, уже собравшейся в магазин.
— Ну что, детки? Вы не против, если я оставлю вас одних? — спрашивает она, и мы оба машинально отвечаем: «Не против», — не сводя друг с друга ошарашенных взглядов. Бабушка уходит, а мы так и остаёмся в оцепенении.
Ну что можно сказать в сложившейся ситуации? Эта Саша ненормальная, должно быть, раз… А что, собственно, она сделала? Да ничего. Не в чем её обвинять. Это я узнал то, что знать было не нужно — мне и разруливать теперь всё. Я перевожу дыхание и начинаю разговор заново — как будто всё так и должно быть:
— Будешь чай?
Она недоверчиво смотрит на меня, как дикий зверёк, пойманный в клетку, но собирается с силами и хрипло — очевидно, в горле от молчания пересохло — говорит:
— Буду.
Атмосфера на кухне чуть разряжается — не настолько, чтобы спустить друг с друга взгляды, но достаточно, чтобы глядеть не так настороженно. Я медленно ставлю кипятиться на плиту чайник и тут спохватываюсь: Саша так и стоит в проёме, как истукан.
— Проходи, садись. Не век же ты там стоять собралась, — выходит грубее, чем я собирался, но её это мало трогает. Она поудобнее устраивает свой тощий зад на старом деревянном табурете и ставит локти на стол. На плите за нашими спинами мерно пыхтит чайник, и его звук действует как-то успокаивающе.
— Ты, наверное, думаешь, что я странная, да? — голова у неё опущена, она изучает свои ногти — короткие и обкусанные, как у мальчишки.
«Странная — это ещё мягко сказано», — думаю я, но вслух говорю совсем другое:
— Есть немного, конечно, но мы все что-то скрываем.
Саша в ответ протяжно мычит — я принимаю это за согласие, — опять хватается за косу и беглым взглядом окидывает бабушкину кухоньку. Тут везде банки с соленьями, куда ни посмотри; полки прямо-таки ломятся от них. Мне здесь всегда по-домашнему уютно; Саше, видимо, тоже: она позволяет себе держаться не так напряжённо, её плечи опускаются, и руки перестают суетливо двигаться.
Пока она осматривается, я снимаю чайник с плиты и разливаю нам чай. Звук чашек выводит её из равновесия, она снова зыркает на меня волчонком.
— Не бойся, ничего я туда не подмешал, — я протягиваю Саше её кружку с чаем.
Она резко выхватывает её и едва не роняет: горячо. Дует на обожжённые пальцы, смешно морща нос, и я, притянув табурет, сажусь напротив неё.
Она красивая, на самом деле, когда кепка не оттопыривает ей уши: вся тоненькая, будто выточенная из фарфора, светлая. Солнце золотит её волосы, вплетается в пряди косы, пронизывает её серые глаза, заставляя таять их лёд. Кажется, что она только притворяется холодной, а глубоко внутри она тёплая и хорошая, и наверняка есть объяснение всей этой ерунде с Мишкой и его бандой. Я глупо улыбаюсь, замечая веснушки у Саши на щеках и носу; очень хочется назвать её ангелом, но неожиданно «ангел» разрушает очарование момента:
— Ну и что ты так на меня вылупился? — она хмурит брови, краснеет и, чтобы скрыть это, отпивает из кружки.
— Да так, ничего, — растерянно отвечаю я. — Просто ты отличаешься… ну, во дворе ты была совсем другой.
Её лицо по цвету напоминает спелый помидор, и даже уши становятся ярко-алыми. Саша яростно потирает щёку, опять подносит кружку к губам и на этот раз долго от неё не отрывается. Потом всё-таки со стуком ставит её на стол и в упор смотрит на меня, так что теперь краснеть и прятаться за кружкой приходится мне.
— Да, совсем другой… — после продолжительной паузы она задумчиво повторяет мои слова. — Так и должно быть, — я показываю ей, что заинтересован, шепчу: «Продолжай». — Видишь ли, девчонок Мишка у себя точно не потерпит. Я его знаю всего неделю, а уже вижу, что он смотрит на них свысока, мол «Куда вам, глупое бабьё, до нас». А я хочу быть с ними, на великах кататься или участвовать в ваших разборках. Мне с девочками скучно, они всё об одном говорят: косметика, любовь, мода — ничего другого. И поэтому я… — Саша опускает голову и переводит взгляд на свои пальцы с обкусанными ногтями. Я догадываюсь, что, если промолчу сейчас, она опять уйдёт в себя, и вытащить её из панциря станет ещё сложнее.
— И поэтому ты прячешь косу под кепкой, — заканчиваю я за неё.
— Да, — она утвердительно кивает. — Только не говори никому, ладно?
Я пожимаю плечами.
— Ладно. Всё равно мы с Мишкой из разных дворов. Кроме того, — я хитро прищуриваюсь, — наконец-то в его банде появился хоть один достойный боец.
Саша только сейчас разрешает себе искренне улыбнуться и облегчённо выдохнуть: она может быть спокойна, я сохраню её тайну.
— Спасибо тебе, — она легонько хлопает меня по спине. — Если хочешь, давай как-нибудь погуляем вместе.
В эту секунду за окном раздаётся свист, сразу же разбивающий повисшую на мгновение тишину, и следом за ним Мишка громко орёт с улицы:
— Александр, давай быстрее! Что ты как девчонка-то?
Саша прыскает в кулак, затем откашливается и кричит ему чуть более грубым, чем её собственный, голосом:
— Я не Александр, а Саша. Сейчас спущусь, чёрт ты такой! — и поворачивается ко мне. — Ну так что? Ещё встретимся?
— Конечно, — я протягиваю ей руку, и она крепко её пожимает. Странно: раньше, если я протягивал руку девчонке, она либо хихикала, что не женское это дело, руки пожимать, либо давала ладонь, но, когда я сжимал её, рука её оставалась вялой и безжизненной. Саша же своим крепким рукопожатием дала фору многим пацанам, и я решил: такую девчонку упускать нельзя.
Она уже почти у самой двери, бормочет что-то про то, что нужно сбегать за кепкой, как вдруг виновато ойкает и говорит мне:
— Прости, но ты же так и не сказал, как тебя зовут.
Я называю ей своё имя, она ещё раз быстро стискивает мою руку, шутливо кланяется, говорит: «Увидимся!» — и я слышу, как в подъезде она топает, взбегая на свой этаж. Я жевсё ещё стою и улыбаюсь: впервые бабушкина кандидатка на роль моей невесты вызывает во мне настоящий интерес.
III.
А потом мы гуляем вместе всё лето, и с каждым днём я тону в ней всё больше и больше. Это не любовь, но намного более сильное чувство. Она понимает всё, что я ей говорю, кажется, понимает даже мои мысли, и это одновременно и пугает, и восхищает. Бабушка думает, что я безумно влюблён в Сашу, Мишка думает, что мы с ней (нет, вообще-то он думает, что с ним) проводим друг с другом подозрительно много времени и даже грозится объявить её предателем банды — позорное клеймо, от которого мало кому удаётся отмыться, — но периодически она доказывает верность Мишке и его пацанам, сбивая меня с ног и задирая, а один раз даже участвует в очередном сражении между дворами и отбирает у нас мяч, так что Мишка успокаивается, хотя и продолжает неодобрительно качать головой, когда видит нас вместе.
Но, надо признать, нас обоих война дворов теперь волнует куда меньше, и участие в ней мы принимаем лишь потому, что так положено — иначе нас сочтут за трусов.
А когда нам удаётся сбежать от разборок, мы чувствуем себя гораздо счастливее. Саша, правда, кепку не снимает — боится, что кто-нибудь узнает её секрет, — но кепка всё равно не мешает ей быть собой. Она говорит со мной, говорит много и подолгу, постепенно впускает меня в свою душу, а я стараюсь вести себя там осторожно, ведь она никому не доверяет так, как мне. Она объясняет, почему не любит, когда её называют полным именем: «Это звучит так, будто я взрослая. Но мне этого совсем не хочется». Вопреки её словам, мыслит Саша более взросло, чем все мои сверстники, которых я знал до неё.
Как-то раз, ночью, мы тайком сбегаем на берег реки — она протекает совсем близко от наших домов — и сидим там до самого утра. Остывший песок приятно холодит нам ноги, в воде широкой серебристой лентой расплывается луна, а над нашими головами мерцают тысячи звёзд. В такой обстановке люди обычно признаются друг другу в любви, и я непременно сделал бы это, если бы со мной был кто-то другой; но со мной Саша, и я совершенно уверен в том, что ей в любви не признаюсь никогда.
Она подтягивает к себе свои угловатые разбитые коленки и обхватывает их руками, начиная мерно раскачиваться взад-вперёд и не сводя странного тоскливого взгляда с неба. Я придвигаюсь к ней чуть ближе и без слов приобнимаю её за узкие плечи. Саша еле заметно вздрагивает, но не отстраняется, только секунду смотрит мне в глаза и говорит:
— Посмотри на луну, — и я послушно смотрю на луну, потому что она мне так сказала. — Она слишком выделяется на небе. Это выглядит так, будто… будто кто-то пальцем прорвал бумажный коробок, у которого все стенки покрашены в чёрный, и этот просвет, — её палец указывает на огромную сияющую луну, — единственный способ убежать от окружившей нас темноты.
И на нас опускается тишина, но не давящая, как тогда, на бабушкиной кухне, а та тишина, в которой мне не нужно ей отвечать, потому что она и без того знает: я её понял.
Молчит река, молчит весь мир, и мы тоже молчим; всё, что сейчас важно, — тепло Саши и склонённая на моё плечо голова с дурацкой кепкой. Я не спрашиваю разрешения, но снимаю с неё кепку и нахлобучиваю на себя. Сашина коса выбивается и змеится по её спине, впитывая в себя лунный свет, но сама Саша не шевелится, она словно замерла, поэтому я тоже не двигаюсь. До самого утра мы не произносим ни слова, а едва солнце бросает первую горсть золота на землю, она как ни в чём не бывало поднимается и отряхивает свои шорты от песка.
— Пошли домой, — улыбается и протягивает мне руку.
А мне неожиданно почти до боли становится жалко, что я никогда не признаюсь ей в любви…
IV.
Однажды она всё-таки обрезает свою косу.
Я захожу за ней в квартиру её бабушки и вижу: Саша сидит перед зеркалом и портняжными ножницами сосредоточенно кромсает волосы. На полу уже целая горка потускневших золотых прядей, но она всё не унимается, стрижёт-стрижёт-стрижёт. Я бросаюсь к ней и перехватываю её руку, не давая дальше издеваться над собой. Спрашиваю:
— Зачем ты это делаешь? — но она гневно раздувает ноздри и вдруг резко толкает меня локтем в бок. И снова: чирк-чирк-чирк. Так она предупреждает, что вмешиваться нет смысла: Саша из тех людей, которых, если они на что-то решаются, уже никто не сможет переубедить.
— Мне так это всё надоело, — чирк. — Эта кепка. Понимаешь, в ней нельзя бегать слишком быстро, иначе она слетит и все увидят это, — чирк. И с непривычной ненавистью смотрит на клочки волос на полу. — А теперь я смогу бегать как все.
Я проглатываю язвительное «Зато ты теперь похожа на чучело» и вместо этого предлагаю:
— Давай лучше я продолжу, а то ты ещё лишнего срежешь.
Саша недоверчиво оглядывает меня, но ножницы протягивает, и я принимаюсь за работу.
Людей я никогда не стриг, если не брать во внимание то, что в детстве я отстриг себе чёлку и месяца два надо мной все смеялись, но со стороны хотя бы вижу, где и что надо подровнять. Я делаю это, наверное, ещё более неловко, чем Саша, но она не мешает и не указывает — замерла, как тогда, на реке. Я в ней многое понимаю, но не могу понять, от чего зависит это её состояние, и орудую ножницами, стараясь думать о чём-нибудь другом.
Постепенно обнажается её бледная шея с маленьким шрамом — когда-то давно поцарапала кошка, — за ней — уши, вполне, кстати, обычные, если на них не давит кепка, и она без своих волос выглядит какой-то беззащитной и совсем маленькой — а ведь она младше меня всего на месяц!
— Спасибо, — тихо шепчет она, опять оживая, берёт у меня ножницы и кладёт их перед зеркалом.
Я замечаю, что губы у неё дрожат, и осторожно касаюсь её руки. Саша ни разу не плакала, поэтому я так боюсь, что это сейчас произойдёт — я плохо переношу чужие слёзы.
— С тобой всё в порядке? — задаю я совершенно ненужный вопрос; видно же, что не в порядке. Но она подавляет свою слабость, отдёргивает руку и говорит:
— Да. Просто… скоро осень. Через неделю я уезжаю.
Это известие как обухом по голове ударяет меня. Чёрт, я же совсем забыл, что она из другого города и не останется здесь навсегда! Пока я придумываю, что ей ответить, она успевает убрать с пола волосы и осмотреть новую стрижку.
От мальчика её теперь почти не отличить — вот и всё, что крутится у меня в голове, в то время как я должен пообещать ей, что всё будет хорошо, что мы встретимся следующим летом, что я буду писать ей. Но ничего из этого так и не срывается с моих губ. Только одно сухое «понятно» — и я перевожу тему, интересуюсь, чем она собирается заняться сегодня. А она печально смотрит на меня, как будто у неё что-то отняли, говорит: «Да ничем особенным», — и предлагает мне идти во двор, с чем я облегчённо соглашаюсь.
К моему ужасу, печаль из Сашиного взгляда за оставшуюся неделю так и не вытравливается.
V.
Мы провожаем её обоими дворами: мой тоже принимает в этом участие, хотя она и из враждебной банды, но расставаться с врагом так же грустно, как и с другом. Да и вообще, говоря начистоту, врагами здесь никто никогда не был: как бы мы ни пытались это отрицать, но мы все были заклятыми друзьями и враждовали лишь для вида. Поэтому все похлопывают Сашу по спине, пожимают руки, некоторые крепко обнимают — но обнимают как мальчишку, потому что никто её тайну так и не узнал. Только я — и почему-то именно я стою в стороне и смотрю куда угодно, но не на Сашу и пацанов. Слышу голос Мишки, который говорит, что Александр лучше всех проявлял себя в банде, клянётся всегда помнить о «нём», и привычное Сашино: «Я не Александр». И опять хлопки, и опять торжественно-печальные речи, которые все начинают произносить, заразившись примером Мишки.
Ей приходится самой подходить ко мне.
— А ты не хочешь попрощаться?
Пожимаю плечами. На душе как-то паршиво, и я не представляю, что с этим делать. Я не девчонка и не могу разрыдаться перед всеми, да и — чего скрывать? — не хочу. То, что мне первый раз в жизни так плохо, уже говорит о многом.
Она от меня совсем близко, можно пересчитать все веснушки на её носу, или уткнуться ей в макушку, или даже поцеловать — хотя она, скорее всего, оттолкнёт меня раньше, чем я это сделаю. Она выжидающе глядит — какие же у неё печальные глаза! — и обнимает меня первая. Не так, как обнимала других, а почти нежно, как если бы любила меня. Но она, конечно, меня не любит, не может любить, это же Саша. Мне от её объятий становится только хуже, но я притягиваю её к себе и тяжело выдыхаю ей в обстриженные волосы. Тёплая. Очень тёплая. Я боюсь её отпускать, а она тоже вцепляется в меня так, будто я её единственное спасение. И так мы стоим, кажется, целую вечность, а на деле — лишь пару минут, и никого вокруг нас нет. Но Саша всё чего-то ждёт — чего-то, что я ей дать никак не могу, — а я лихорадочно соображаю, но все мысли вязнут в каком-то тумане, и, когда я почти хватаю нужную мысль, рядом раздаётся: «Пацаны, ну что вы как влюблённые-то, в самом деле!» — и Саша тут же испуганно от меня отскакивает.
Мишка нервно смеётся, ударяет меня по плечу и говорит: «Я, конечно, понимаю, вы там сдружились и всё такое, но, блин, ведите себя на людях нормально!» После этого ни она, ни я не готовы продолжать разговор, теперь она на меня не смотрит, и всё-таки я замечаю, как побледнело её лицо и как она всеми силами удерживает готовые хлынуть слёзы. Мне самому так гадко, что я не оправдал её надежд, хочется сказать: «Дай ещё пару минут, я подумаю и найду выход из всего этого», — но ни пара минут, ни пара лет уже не спасут положение, потому что
Саша закрывается в себе и прячется в панцирь.
Просвет в её личном чёрном коробке, это прорванное пальцем пятно, заделывают новым чёрным лоскутом. Единственный путь к спасению исчезает. Нет, не так. Его уничтожаю я.
Смутно помню, как она садится в машину, где её ждёт отец, и уезжает. Я обещаю писать ей — и честно пишу два раза, но она отвечает кратко, и вскоре наше общение сходит на нет.
И всё.
На следующий год Саша уже не приезжает.
А мне не хочется никого видеть, все люди становятся какими-то противными. Спустя несколько дней после её отъезда я наконец осознаю: она мне нравится. И ещё одну вещь я понимаю сразу за этим.
Слишком поздно.
VI.
Я встречаю её ещё раз через десять лет — совершенно случайно, когда возвращаюсь с очередного собеседования по поводу работы.
Признаю, первой окликает меня она, и я секунды три подозрительно смотрю на ещё молодую, но уже обрюзгшую женщину, держащую за руку маленького мальчика и одновременно качающую коляску, прежде чем восклицаю — правда, без особой радости — её имя: «Саша!»
Она выглядит уставшей, но старательно лепит на густо накрашенные губы счастливую улыбку. Волосы у неё снова длинные, собраны в небрежный пучок, но какие-то линялые, будто весь цвет с них стёк. Десять лет назад она казалась мне чучелом со своими небрежно обстриженными волосами, но сейчас я думаю, что с той стрижкой, созданной нашими совместными усилиями, ей было намного лучше.
— Как ты? — спрашиваю, чтобы спросить хоть что-то, потому что догадываюсь: говорить нам не о чем, она стала такой же, как те люди, которых я начал презирать после неё.
— Нормально, — она обводит ладонью коляску и мальчика, хмуро глядящего на меня из-под густых бровей — совсем как Саша когда-то. — Вот, вышла замуж, дети… — и это всё, о чём она может мне поведать через десять лет, которые мы не виделись. И зачем-то виновато добавляет:
— Так и должно быть.
Когда она сказала это в шестнадцать лет, я промолчал. Я многого ещё не понимал. А теперь понимаю: так быть не должно. Не должно быть такого, чтобы девчонка, наравне с мальчишками участвующая в дворовой войне и катающаяся с ними на великах, девчонка, так крепко пожимающая мою руку, — чтобы она превратилась в измученную жизнью толстую домохозяйку с пучком на голове, не видящую дальше кухни и двух своих детей. Я уже собираюсь сказать ей это, встряхнуть её, но опять чуть-чуть не успеваю. Раздаётся голос (уже не Мишкин, но, впрочем, какая разница?):
— Александра! — и к нам подходит незнакомый мужчина — видимо, её муж. — Кто это?
— Мой друг детства, — отвечает она. И не произносит «Я не Александра, а Саша» — вот что самое страшное.
Её муж оценивает меня взглядом и протягивает руку. Я без энтузиазма жму её, потом оборачиваюсь к Саше и говорю:
— Ну, я пойду, наверное, — и сжимаю её ладонь, как делал это десять лет назад.
Её рука оказывается вялой и безжизненной и даже не трепыхается.
— Тогда пока, — тихо шевелит своими чересчур красными губами и возвращается к коляске.
Я практически бегу от них, куда — уже всё равно, но видеть её в таком состоянии невыносимо. Я готов проклинать себя за то, чего когда-то не сказал, за своё промедление. Скажи я ей тогда несколько чёртовых слов — и всё могло бы обернуться по-другому. Она так ждала, и я знаю — она меня любила, и я тоже её любил, но в голове стучит та же мысль, что и в тот день, когда я осознал свои чувства.
Слишком поздно.